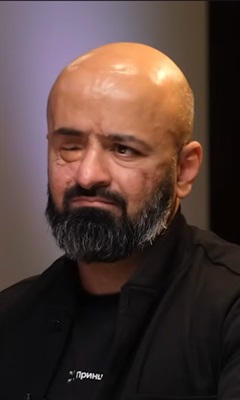Мы жили в учительском доме. Своими стенами он как парусами белел среди моря зелени, бушевавшей вокруг. Для посёлка это был небоскрёб. Ведь рядом с нами – время был послевоенное – семья Луценко ютилась в полуземлянке.
– Не могу больше жить в этой яме! – доносился визгливый голос Луценчихи с подземелья. – Згинь!
– Чего вона рэпэтуе? – спросил я Мыколу Теличко, хатка которого была подпёрта бревном, чтоб не свалилась. – Семейные дела решают, – отвечал Мыкола.
– А-а-а, – отвинтил я.
– Что за семейные дела? – думал я весь день.
Вечером, когда мы с отцом пошли в крамницю за подушечками, к нам подошел Луценко, рабочий с маслозавода, где из семечек давали подсолнечное масло – олию.
– Фёдор Алексеевич, дайте три рубля взаймы, – заискивающе попросил он отца. А тот – широкая душа – сразу полез в карман брюк.
– Выпью, чтобы забыть эту собачью жизнь, – поделился он дальнейшими планами, зажав в кулаке драгоценную трёшку.
«– Ой, кум до куми залицявся,
Посіяти конопельки обіцявся.
Він сіяв, присівав, присіваючи казав:
"Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, хороша!"» – , горланил выгнанный из землянки Луценко, когда стемнело.
«– Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо.
Звёзды блещут…», – сказал поэт.
Но Луценко не замечал красоты, а плакал пьяными слезами…
Трещала керосиновая лампа, а мама выговаривала отцу, слушая рёв и всхлипы соседа:
– Доброе дело, называется, сделал. В доме и так денег не хватает, а он готов отдать последнее.
– Так чоловик просыв...
Мы игрались под тыном: там было прохладно, а заросли из громадных лопухов делали это место таинственным, и кирпичи заменяли нам игрушки. На тын кто-то нацепил яркий плакат с портретами вождей мирового пролетариата, и забредшая к нам коза с удальством жевала усы и бороды вождей: с плакатов капал клейстер.
– Вот тебе конь, сказал однажды мне отец. – Военком подарил. У него дети давно выросли.
– На тебе небоже, что нам негоже, – подумал я про себя, но чтобы не огорчить отца, сказал ему:
– Как у Чапаева!
Конь был с ободранным хвостом, без зубов и на колесах.
Но он тоже нашел себе место в затишке, под лопухами. Мы начали возить на нём кирпичи для хаты Лешки Луценко.
– И-го-го! – кричал Лёшка, принимая кирпичи, как кубики. – Мати репетувати не буде!
– Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить! – повторял я слова отца.
До нас донесся шум двигателя.
– Это полуторка из коммунхоза! – воскликнул Мыкола. – Айда попросимся у дядки Сашко покататься.
Мы оказались не одни такие умные. Толпа поселковых мальчишек уже окружила маленький грузовичок.
– Что, бойцы невидимого фронта? – спросил дядко Сашко. Он был одет в солдатскую гимнастерку и смотрел на нас весёлыми глазами.
– Ага-ага, – все закивали головами.
– Некогда мне, надо женщин с рассадой на клумбу везти. Да ладно, разок можно.
Мы как горох посыпались в деревянный кузов и помчались мимо гусей и коров.
– Мы вели машины, объезжая мины по путям дорожкам фронтовым, – неслась песня из кабины.
– Глянь, в бортах дырки! – крикнул я Мыколе.
– Это следы от пуль! – крикнул он мне в ответ. В ушах свистел ветер, и мы были на вершине счастья.
– Га-га-га! – кричали нам гуси и хлопали крыльями: они, наверное, нам завидовали. Сделав круг, дядко Сашко высадил нас возле крыльца коммунхоза.
– Опять пацанов катаешь?! – упрекнул его директор коммунхоза, появившись на крыльце. На нём была партийная кепка и френч, как у товарища Сталина. – Детство в голове играет. А еще герой Сталинграда.
– Последний раз, Иван Денисович, – виновато ответил он и крикнул женщинам, ожидающим его с рассадой:
– Грузитесь, бабоньки!
– Вот кто-то с горочки спустился… – сразу запели новые пассажирки.
Тогда, после войны, люди жили в нужде и холоде, но часто пели.
«– Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!» – по утрам неслось из чёрного репродуктора в центре посёлка…